| Валюта | Дата | знач. | изм. | |
|---|---|---|---|---|
| ▼ | USD | 14.01 | 78.85 | 0.06 |
| ▼ | EUR | 14.01 | 92.4 | 0.43 |
Разлучённые с детством

К восьмидесятой годовщине начала Великой Отечественной войны уже практически не осталось ветеранов, но живы люди, кто вынес это страшное бремя, будучи детьми. Каким было их детство, опалённое войной?
Иван Демидович ЗАХАРЕНКОВ, 89 лет, с. Первомайское:
— О том, что началась война, мы узнали в первый же день, 22 июня. Только я тогда смутно понимал, что это такое. А в начале июля 1941 года в нашу деревню Абрамовщина в Смоленской области пришли немцы. Помню, было жарко, я спал под крышей. Проснулся от того, что в деревне какой-то шум, чужая речь. Смотрю в щель между досками, а по улицам ходят чужие люди в красивой форме. Спустился и спрашиваю мать, что случилось. А она мне: «Немцы пришли». В эту ночь все мужчины, в том числе и мой отец, из нашей деревни ушли. Больше я его не видел.
В нашей деревне протекала речка небольшая, а немцам нужно было через неё переправить всю технику. Так вот они за один день построили мост. Затем по нему пошли машины разные, пушки дальнобойные. Пушки тащили на подводах лошади, по 16 лошадей-тяжеловозов в одной упряжке. Мой дед, который прошёл Гражданскую, смотрел и говорил: «Какая страшная сила!»
Немцы организовали штаб и собрали около него всех жителей. Объявили, что если сопротивляться не будут, их не тронут. Везде провода какие-то протянули, у нас в огороде зенитку поставили прямо на картошке. К нам в дом немцы ходили есть. Мать готовила и кормила их. А что она могла сделать? Осталась с четырьмя детьми, дедом с бабкой и двумя сёстрами. Старые да малые. Помню, немцы сядут за стол, а мы все за печкой спрячемся и вы-глядываем. Они заметят и пальцем на нас: «Пух, пух», как будто стреляют.
Немецкие солдаты прожили у нас в деревне до осени. А потом ушли. Как говорили, «на Москау». А зимой пришли наши. Казалось, что вся Красная Армия через нашу Абрамовщину идёт. Столько военной техники, столько солдат!
В августе 1943 года к нам приехали на лошадях люди в форме и всю нашу семью забрали. Матери зачитали приказ о том, что мы являемся изменниками родины, так как оказывали пособничество немцам. Посадили в вагон и отправили в Новосибирскую область. Было тесно, душно. Один раз накормили тухлой солёной селёдкой. Потом очень хотелось пить, дети плакали, но воды конвоиры так и не дали.
Из Новосибирска нас в товарняке переправили в Асино, а там оставили на железнодорожной станции. Сидели на вокзале несколько суток, а потом мать с другими женщинами сами пошли в милицию, чтобы нас хоть куда-то определили. Нам дали работу на льнозаводе и небольшую комнатушку. Зарплаты не было толком, паёк мы не получали. Тогда мать каким-то образом выпросилась в Вознесенку Первомайского района, нашла работу: пилила дрова для пароходов, которые ходили по Чулыму. За два с половиной куба давали по 500 граммов хлеба. Мне уже исполнилось одиннадцать, и я стал помогать матери.
Мама в Первомайское ходила на отметку и однажды встретила наших родственников. Их, оказывается, тоже сюда отправили. Они помогли маме устроиться в заготконтору. Нам дали угол в бараке, где жили девять семей с детьми. Мать на быках ездила за сеном, меня определили помощником пастуха. Это моя первая запись в трудовой книжке. Зимой работал в конюшне.
Хорошо мне досталось в войну. Никому не пожелаешь. Вместо того, чтобы учиться и жить в родной деревне, я отбывал ссылку, лишился отца. Многие наши земляки после реабилитации уехали обратно, а мы так тут и прижились.
Надежда Георгиевна ЛИБИК, 85 лет, г. Асино:
— Война застала меня в Чаинском районе в селе Коломинские Гривы, мне было 5 лет. Вместе с мамой, её братьями Петром и Иваном, младшей сестрой Прасковьей жили в бабушкином доме. Помню, как дядек забирали на фронт. Петра призвали в 41-м вместе с другими мужиками. Стон на всю деревню стоял. Второго моего дядю долго не призывали. Ему литовкой на покосе ногу повредили, рана не заживала. Взяли только в 1944-м в трудармию. Он подвозил продукты на кухни, доставлял еду солдатам. Был неграмотный, знал всего несколько букв, вот и писал домой только те слова, где они встречались.
Все пять лет войны я маму свою Александру Никифоровну очень редко видела. Она часто оставалась ночевать на работе. Зимой хлеб пекла, летом на культстане кормила колхозников. Можно сказать, что меня бабушка Евлампия Осиповна растила, поэтому я долго называла маму тётя Шура.
Была у меня в те годы подружка, с которой, кстати, мы по сей день поддерживаем связь. Везде вместе были. Придём на культстан к маме, поможем ей на кухне, а она нас покормит. Поедим и домой бежим.
Зимой в пекарню к маме ходили. Она нас за шторку на печь посадит, чтобы никто не видел, остатки квашни поскребёт, лепёшку пожарит и нам даёт. На печи лежало много спичечных коробков пустых. Мама их не выкидывала, на розжиг оставляла. У нас с подругой была забава в эти коробки тараканов раздавленных складывать. Вот помню случай. Сидим с подругой на печи, только лепёшку тёплую разломили, как зашёл сельский председатель. Мы испугались, лепёшки под попы спрятали, сидим, шелохнуться боимся да шушукаемся. Председатель услышал, шторку отодвинул и стал ругаться. А я смекнула: коробок ему протягиваю и говорю, мол, мы тараканов ловим. А он в ответ: «Ой, спасибо, девочки, я вам по трудодню запишу».
Голодно, конечно, жили в те годы: люди крапиву, лебеду рвали, собирали на полях мёрзлую картошку. У нас картошка своя была, но почему-то мелкая. Бабушка её натирала и хлеб пекла. Я в свои 5 — 6 лет уже знала, как выглядят молодая и старая крапива и лебеда. Насобираю, бабушка помоет, нашинкует, ложку сметаны добавит. Ох и вкусно было! А вот корову пришлось нам продать: мужиков забрали, сено косить некому было. Как бабушка плакала, когда с кормилицей расставалась! Вырученные деньги в мамины ботиночки припрятала, да и забыла про них. Деньги в войну тратить не на что было. Я уже в школе училась после войны, когда на праздник эта обувь мне понадобилась. Ногу сунула, а там бумажные купюры. Но они уже ничего не стоили.
Страшно вспоминать историю, как во время войны из-за меня посадили в тюрьму тётю Прасковью. Дело было так. Её поставили сторожить по ночам зерновой ток. Однажды приехал бригадир и уговорил взять обоим по мешку зерна. Мол, никто не узнает, ему пятерых детей кормить нечем. Прасковья согласилась. Она была ещё совсем молодая, лет пятнадцати. Бригадир загрузил в телегу два мешка зерна и привёз один себе, другой нам. Бабушка на радостях нажарила пшеницу на сковороде. Я в карман насыпала горсть и пошла на улицу. Естественно, угостила девчонок. Одна из них рассказала отцу, а тот заявил в сельсовет. Прасковью приговорили к трём годам заключения. Ближайшая тюрьма находилась в Томске — это километров четыреста от нас. Она сама пешком в тюрьму шла вместе с гуртом коров, которых гнали на убой на мясокомбинат. Рассказывала, что ночевала под открытым небом, доила коров и пила молоко, собирала ягоды и грибы в лесу. Через год её отпустили. Помню, когда она домой зашла, я под кровать спряталась. Плакала сильно, прощение у неё просила. А тётя меня обняла и говорит: «Лучше бы ещё год в тюрьме провела, там хоть кормят».
О Победе все узнали из сообщения по радиоприёмнику, который висел рядом с конторой. Все из домов повысыпали, плакали, обнимались. Моя бабушка плакала по Ване, которого считала без вести пропавшим, потому что он ничего о себе не давал знать. А вот Пётр вернулся где-то через полгода... Прошёл всю войну, контужен был. А потом от Ивана весть пришла. Оказывается, он на фронте познакомился с женщиной-поваром, потом женился и уехал с ней в Выборг. Когда у них появился первенец, прислал его фото и сообщил, что жив-здоров, но имеет много ранений. Я к нему в гости два раза ездила, потом и он приезжал.
Часто перебираю в памяти эти события и думаю, какое страшное горе пережили люди. Наши-то живыми вернулись, а вот одна семья в деревне получила похоронки на всех пятерых сыновей.
Зоя Николаевна МОЛОГИНА, 85 лет, г. Асино:
— Когда война началась, нас у мамы было пятеро: самому старшему — восемь, самому младшему — всего две недели. Отца забрали на фронт сразу. Мы в то время жили на Алтае. Мама, Анна Васильевна, была почтальонкой. Много похоронок она вручила матерям и жёнам. Весь день бегает, весточки разносит, а по ночам дежурит на коммутаторе, принимает важные сведения и сообщает председателю. Когда она приходила к людям с почтой, её угощали кто чем мог. Она за пазуху сунет, а потом между нами поделит. Дома сидели одни: не было ни бабушек, ни дедушек. Мама старшего Ваню научила пеленать новорождённого. Нянчились с ним сами, как могли. Картошку только в мундирах варили, чтобы лишнее не срезать при чистке. Растений съедобных в горах росло много: полевой лук, дикая репка, ревень, слизун. Слизун мешками собирали, в бочках солили. Надо отметить, что в деревне люди были дружные. Нашей семье очень сильно помогали: кто картошки принесёт, кто похлёбку недоеденную. Помню, как мамочка однажды слегла. Мы сидели вокруг её кровати и рыдали в голос. Соседи нас не бросили, заботились.
Особенно сложно зимой было. У нас на Алтае лес рос только в горах. Дети собирали стебли кукурузы, подсолнухов, полыни. Ими и топили печи. Ещё для топки заготавливали кизяк — сухой коровий навоз.
Помню случай, как деревня конец посевной отмечала коллективным обедом. Все взрослые своих детей туда привели, а мама нас не взяла, постеснялась, что много ртов. Мы сидим на крыльце, плачем, и соседка мимо идёт. Забрала нас с собой. Наелись тогда досыта!
Когда приходило письмо от отца, мама нас всех собирала и читала вслух. Последняя весточка была в мае 45-го из Кёнигсберга. Он писал, что скоро увидимся, что они уже близко к Берлину. А потом письма перестали приходить. Мама подавала в розыск, но так ничего и не узнала. До сих пор Николай Егорович Плешаков считается без вести пропавшим.
Как же не вспомнить и о том, как Победу встретили! Мама как раз на почте и услышала, что Германия капитулировала. Побежала по деревне почту разносить и кричит: «Война закончилась!» Люди не верили, переспрашивали, плакали и от горя, и от радости.
Я в военные годы три раза в первый класс начинала ходить. Пока тепло, бегаем на учёбу, как зима настаёт, бросаем. Нечего было ни одеть, ни обуть. С братом по очереди носили вещи: он в первую смену учился, я — во вторую. А вшивые были! Вот пойдём в баню, одежонку на левую сторону вывернем и повесим над каменкой, чтобы вши погибли. Мыла-то не было. Досталось и нам, и нашей мамочке, конечно. Она у нас такая умница: всех детей сберегла, вырастила.
Василий Иванович КУЗНЕЦОВ, 85 лет, с. Зырянское:
— Родился и вырос я в Громышёвке Зырянского района. До войны наша семья жила очень хорошо. Война разрушила всё. Отец был коммунистом и с первых дней рвался на фронт: не мог оставаться дома, когда стране нужны были солдаты. Мама, проводив его, осталась одна с четырьмя детьми. Старшие братья работали, а я, пятилетний ребёнок, водился с новорождённым братом. Вскоре он заболел и умер, потому что лечить было некому и нечем. Так нас осталось трое. Затем пришла похоронка на отца, который погиб, защищая Ленинград. На наши детские плечи легли совсем не детские заботы. В восемь лет я ещё не ходил в школу, зато помогал по хозяйству. Помню, как мы голодали. Сдавали для фронта и молоко, и яйца, и шерсть, и шкуры. Не дай бог зарубить и съесть свою же курицу. У уполномоченного (я на всю жизнь запомнил, что звали его товарищ Крихта) всё было записано и подсчитано.
Летом рвали траву: сныть, крапиву, корни лопуха. Измельчали и варили для скотины, а для себя в эту зелёную кашу добавляли немного молока и ели. Целую картошку не садили, только глазки. Осенью практически всю сдавали, а себе оставалось столько, лишь бы не умереть с голода. Поэтому на семена не хватало. Мама своё пальто, совсем новое, обменяла на ведро картошки, чтобы нас накормить. Шутка ли, трое мужиков в доме! Летом собирали грибы и ягоды. В лес ходили одни, без взрослых. Иногда к нам привозили кино. Чтобы купить билет, мы с братом Анатолием ловили бурундуков и сдавали. Собирали в гнёздах яйца дроздов, маленьких пташек ловили на еду, рыбу удили. Все трое мы очень любили маму, старались сделать всё, чтобы ей было полегче. Летом, в жару, мне приходилось караулить грядки от кур. А самому так хотелось на речку сбегать искупаться! Вот так и жили, зато все выросли людьми, знающими цену куска хлеба.
Валентина Ивановна МИХАЛЬКОВА, 82 года, с. Зырянское:
— Когда началась война, мне было всего три года от роду. Осталось в памяти, как мама уходит на работу. Я сижу у окна, а она выходит за калитку и машет мне рукой. Дома я её практически не видела. Работала Анастасия Ивановна Киселёва на железной дороге. Отца в первые же дни войны забрали на фронт. Домой он не вернулся, пропал без вести. Старшая сестра-подросток, как и мама, работала. Учиться было некогда, да и не до того. Порой маму отправляли на заготовку леса, где она находилась подолгу. А мы с сестрой оставались на хозяйстве. И скотина на нас, и огород. Мне было лет пять, когда я начала доить корову. Тяну вымя изо всех сил, а струйка ма-а-а-ленькая бежит. Самое страшное началось, когда корову у нас забрали. Кормить-то было нечем, вот и недодала она 30 литров до нормы, которую надо было сдать для фронта. Пришёл проверяющий и увёл корову. Я бежала за ним по улице и рыдала навзрыд. В голод выручала картошка, да и ту надо было сдавать. Летом бегали с ребятишками на поля, где рос горох. Наедимся да ещё за пазуху наберём. Если нас заметит объездчик, то гонится за нами на лошади и бьёт кнутом вдоль спины. А мы бежим что есть мочи. Вот такое детство у меня было. Не дай бог никому!


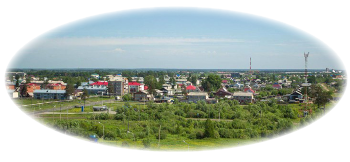





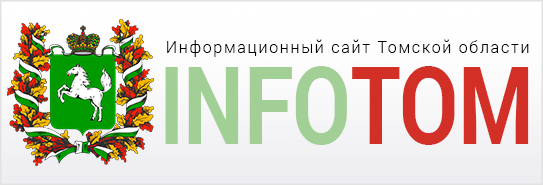
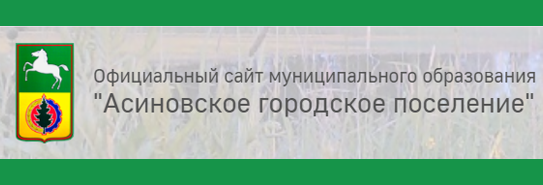

Оставить сообщение: